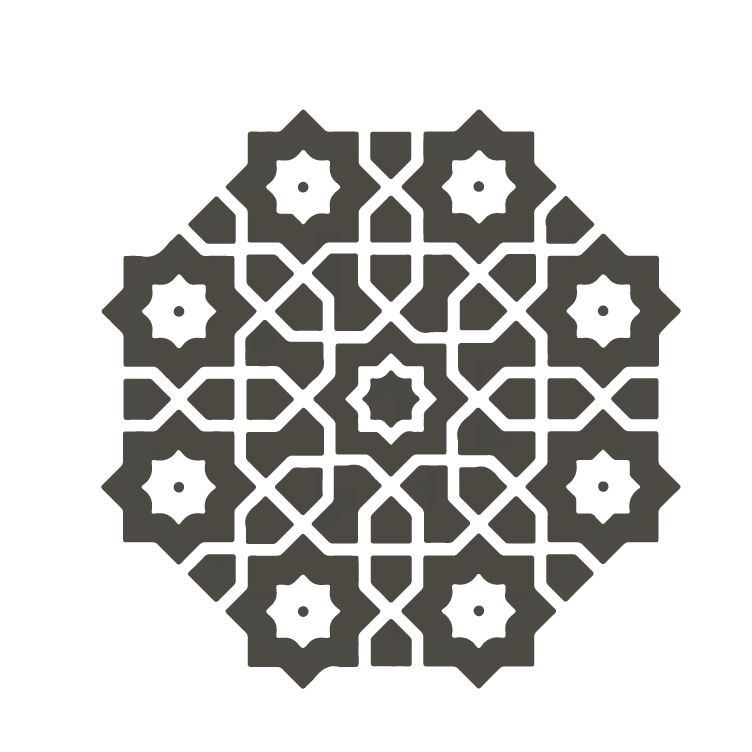Бегущий Ахиллес никогда не догонит ползущую черепаху там, где время застывает. Где оно фрагментировано. В какой момент время Матису застыло? Когда он был разделен со своей матерью? Когда ребенком переживал одиночество и отстраненность в доме отца? Когда отца и дома не стало? Или, когда он увидел залитое кровью лицо мачехи, давшей обещание, которое она не сдержала? Или может быть, с рождения его время уже было застывшим?
«Матису мечтал быть художником, точнее, его заставили об этом мечтать», – мы слышим заданный Другим вектор, от которого художник никогда не откажется.
Матису-мальчик начинает рисовать в угоду отцу – промышленнику-коллекционеру. Он мечтает стать знаменитым, как художник, которым восхищается отец, чьи картины висят на стенах их дома, так несуразно выделяясь на фоне хорошо выдержанного интерьера. Художник хвалит рисунки Матису и дарит ему свой берет. Или тень его преследующую? Но скоро мы понимаем, это не был жест признания таланта ребенка, а жест в сторону отца, чье расположение необходимо было поддерживать, чтобы сбывать и далее никчемные картины не смыслящему в искусстве богатею. Здесь мы ощущаем некую подмену смыслов: Матису растет в доме, где «хорошо проданные» экземпляры, не имеющие художественной ценности, почитаются за настоящее искусство.
Пока все время Матису занято рисованием. Наблюдая за ним, мы можем задаваться вопросом, что стоит за этим: это его желание и потребность? Это интерес маленького исследователя, который экспериментирует, вылепливая свою «Камбалу»? это ответ ребенка на «недостаточно живое» окружение? Или это его аутистическая реальность? Пока неизвестно. Удивительно, но в этом постоянном рисовании ребенок не встречает никаких ограничений, даже там, где это необходимо. Запретов нет. То, что могло бы дать опыт связи с реальностью, направить либидо на объектные отношения, через символогенную кастрацию заложить основы сублимации – не происходит. Уровень символического остается закрыт.
Однако, попадая в дом к дяде, мальчик сталкивается с запретом. Но как он с ним обходится? Он его отбрасывает. Не понимает.
Тем не менее мы видим, что Матису-ребенок может творить. Нарисованный им портрет мертвой мачехи, будь то попытка горевания, или механистический процесс, в котором запечатлевается все. Что бы это ни было, это имеет уникальность. Возможно, именно в этом месте Матису ближе всего к сублимации. Так ли это, мы попробуем разобраться.
Вырастая, Матису-юноша на первый взгляд дает нам надежду на развитие невротических черт. Он продолжает рисовать, намерен пойти учиться живописи, устраивается на работу, чтобы достичь этой цели. Он создает семью. Все это выглядит как вполне адаптированный субъект, у которого часть влечений проживается, часть сублимируется в творчестве. Однако, мы замечаем, что отношения с женой выглядят однобокими, она им восхищается, а Матису мало отличает ее от других фигур и вскоре, не встречая никакого сопротивления с ее стороны расширяющимся пределам своей деятельности, он организует ситуацию наподобие его детства – где он поглощен, он рисует, а сопровождающие его няня и работники уговаривают цыплят позировать смирно, не шевелиться, пока мальчик не завершит набросок – разрыв с реальностью увеличивается.
С пейзажа с лодками, который Матису приносит в галерею начинается новый этап в его творчестве. «Попробуй нарисовать что-то уникальное. Картина плохая, но я ее себе оставлю”, – так звучит еще одна подмена смысла, словами арт дилера, сына того, кто сбывал картины господину Курамоти, отцу Матису. После этой встречи Матису больше не рисует через свое восприятие, хотя он рисует как никогда много. В его картинах его больше нет. От подражания и копирования в поисках признания арт дилером (отцом), он устремляется к теряющим смысл и художественную ценность экспериментам. В его работах становится ярко заметна буквальность его восприятия. Мы видим, как ничем ни сдерживаемый патологический процесс развязывания влечений с годами набирает обороты, и вот, уже Матису-пожилой человек, все в той же попытке создать что-то уникальное совершает перформансы на грани смерти. И чем дальше он заходит, тем сложнее зрителю различить: пытается ли он все еще добиться уникальности художественного эффекта или пытается покончить с собой? Связь с реальностью разорвана. Матису не трогает ни жизнь, ни смерть. Он остается безучастен. Смерть дочери, которая от отчаяния и «глухоты» родителей стала заниматься проституцией, не пробуждает в нем ничего живого. Матису пытается сотворить из ее смерти очередной «акт искусства». Но, как и в бесчисленных предыдущих попытках, ему нечего передать другим. У него нет живых аспектов. Нет чувств, смыслов, он не ощущает трагизма ситуации, чтобы это можно было вложить в работу. Эта сцена ужасает.
Итак, главный вопрос: является ли творчество Матису сублимацией?
Занимается ли он творчеством? Да. Производит ли что-то новое? Да. Имеет ли это ценность для социума? Скорее нет. Отводятся ли в этом процессе влечения? Мы не знаем, но скорее видим, что он не проживает напрямую своих влечений.
Из того, что нам дано наблюдать, мы склонны говорить о Матису как о субъекте психотическом, и тогда его деятельность предстает перед нами в другом разрезе. Она имеет измерение творческой. Однако, она не направлена на то, чтобы получить удовлетворение через процесс, она направлена на нечто другое. Если говорить словами Лакана, который вслед за Абрахамом развил эту идею, она направлена на то, «чтобы наложить заплатку на дыру в символическом».
P.S.: Тот самый пейзаж с лодками, первая работа Матису, которую он принес в галерею, мы видим его на стене ресторана, где Матису-пожилой человек просит деньги на краски у своей дочери-проститутки, которую тут же ожидает клиент. Матису не замечает свою картину. Этот кадр будто открывает перед нами другую перспективу – жизнь, в которой художник на доступном ему уровне получает признание (не отца, но общества) через востребованность своих «неуникальных» картин. Было бы этого достаточно, чтобы влечение к жизни и влечение к смерти оставались связанными?